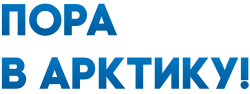На карбасе к Канину Носу
Карбас входит в устье маленькой речки в южной части Канина. Здесь одно из крайних северных русских селений

Староманерное судно
В последнее время среди исследователей Севера стал подниматься интерес к традициям северного судостроения. В особенности это касается карбаса – промыслового судна, которое веками строилось по всему Беломорью. В ряде случаев энтузиасты даже воссоздавали реплики этого парусно-гребного судна, которое показало отличные мореходные качества. Характерно, что русские поморы строили подобные лодки «на глаз», безо всяких чертежей, что, кстати, раздражало Петра I, который своими указами неоднократно запрещал северянам строить «староманерные» суда. Именно по этой причине о конструкции карбасов мало что известно. Ещё меньше сохранилось свидетельств об использовании последних на море.
Впрочем, недавно мне удалось обнаружить одно такое свидетельство, которым я хотел бы поделиться…
В 1913 году натуралист Покровский опубликовал в одном из дореволюционных журналов очерк, в котором рассказывает о поездке на карбасе в Ледовитый океан, к Канину носу. Обратимся же к запискам исследователя…

В путешествие Покровский отправился в компании двух коллег – учёных-натуралистов. Судёнышко, в которое погрузились «три мудреца», было обыкновенным промысловым карбасом, какое в то время использовали поморы Белого моря и Мезенской губы. Покровский приводит описание судна: оно имело 6 сажень в длину (11 м) и три сосновые мачты, которые были оснащены холщовыми парусами. За эти три мачты натуралисты величали карбас «фрегатом». Обязанности кормщика исполнял хозяин карбаса – Фома. Это был седой как лунь старик, который всю жизнь прожил в селе Долгая Щель. Отсюда, собственно, и началось путешествие к Канину.
Покровский удивляется, что карбас не имел никакого названия. «Впрочем, чему удивляться? – рассуждает он. – И это бывает. Чего его звать? Карбас так карбас, судно так судно!». Однако тут же наш герой спохватывается и начинает гадать, крещено ли судно…
«Может, оно крещено «Святым Николаем, в честь любимца беломорских поморов или «Апостолом Фомой», по ангелу своего хозяина, – рассуждает Покровский. – Быть может, старик не хочет произносить имени святого перед неблагочестивыми ушами чужих пришельцев. Бог весть, какой старик веры, какого крещения…»
Одно из самых ценных свидетельств Покровского – его информация о каюте, которой был оборудован карбас. Впрочем, на многих древнерусских иконах, где изображены рыбацкие лодки, можно различить некое подобие каюты (более всего они походят на чердак). В самом деле, как можно было отправляться на промысел в суровые северные воды, не имея крыши над головой? Одежда, провизия, карты, тот же «маточка-компас» – всё это может выйти из строя в солёной воде.
Хозяин судна называл каюту «кибиткой», в которой, по свидетельству очевидца, нельзя было выпрямиться, а можно было только лежать, да стоять на коленях перед образом святого Николы.
Далее Покровский продолжает описывать карбас: по бортам вделаны массивные уключины, на днище уложены два тяжёлых бревенчатых весла – на случай безветрия, когда команде придётся подгребать к берегу «ручною работою». «На такой-то утлой посудинке мы идём в Ледовитое море, – бодрится наш герой, – и смело поднимемся к северу в виду опасных берегов Канина».
Покровский замечает, что навигация у полуострова очень непроста: дно неизведанное, много не обозначенных на карте мелей («по здешнему – «кошек»). Плюс к этому беспрестанно меняющиеся течения и необычайно большая разница в виде «прибылой и убылой воды» – прилива и отлива; всё это пугает самых опытных шкиперов и заставляет их держаться подальше от «неверного» полуострова.
«Но всех этих опасностей для нас не существует, – убеждает себя натуралист, – потому что мы идём в море с Фомой, который знает эти воды, мели и берега, как свой родной дом. И если мы чувствуем теперь некоторый трепет, то это не чувство страха, а небывалой, ещё не испытанной радости. Ведь мы в океане, в самом Ледовитом океане, с которым связано столько детских грез, далёких от будничной жизни! Мальчиком мечтал я о дальних тропических странах, путешествиях, опасностях, и был убеждён, что со временем увижу и Южную Америку, и Австралию, и дикую Африку, но почему-то именно Ледовитый океан казался мне таким недостижимым, таким таинственным. Мне и в голову не приходило, – продолжает Покровский, – что я когда-нибудь увижу его наяву. А теперь вот он – вокруг меня! Северное солнце приветливо блещет над ним. Мягко светится его молочно-голубое стекло. Я вдыхаю запах его волн, слышу его голоса, неслыханные мною никогда голоса океана».
Загадочный плач
Простившись с Долгой Щелью, карбас вышел из устья Мезени в океан. Прямо по курсу – постепенно раздвигающийся простор. Слабый южный ветер, по-местному – «русский» – слегка надувает паруса. Морская гладь на горизонте сливается с небом… Кругом – полная тишина.
Наш герой замечает, что идти под парусом – совсем не то, что на пароходе: «Там ты знаешь, куда тебя везут, всё по расписанию: машина работает послушно, неутомимо крутятся винты, пахнет машинным маслом, гарью и дымом. Буфет, лакей, стадо людей, которые больше смотрят друг на друга, чем на море и, не успев отъехать от берега, начинают уже скучать, томиться, ждать конца или, по крайне мере, звонка к завтраку или обеду… Настроение не то вокзала, не то гостиницы, и эта «чумная» полоса дыма над пароходной трубой. А здесь, на карбасе, чувствуешь себя преданным воле стихий: захочет ветер нести, куда тебе надо, и ты будешь двигаться очень быстро. Не захочет – бросай якорь и стой, пока не изменится ветер. Лежи на палубе и загорай, слушая, как полощутся паруса!».
Покровский и его товарищи лежали на днище у носа, когда шкипер показал им пальцем куда-то вперёд: все как по команде приподнялись и стали разглядывать горизонт. В самом деле, впереди маячит узкая тёмная полоса. Канин!
Но до полуострова ещё далеко. Недаром Фома скоро задремал на руле. Странный какой-то этот старик: несмотря на тепло, он в своём полушубке и оленьей шапке с ушами...
Полная тишина! Лишь слышно бульканье воды у форштевня[1], да на острие мачты шелестит тряпичный флаг. Лишь иногда слышен внезапный плеск: это какая-нибудь рыба выпрыгивает из моря, испуганная внезапным преследованием.
Неожиданно появляются полярные крачки – белые, слегка серые сверху, с красными лапками и носами. Они свистят, садятся на мгновение на рею, затем срываются и исчезают в просторах океана.
Вдруг натуралисты начинают оглядываться по сторонам: им одновременно слышится какой-то тихий мелодичный звон, который нарастает. Кажется, что какая-то невидимая рука встряхивает огромную связку бубенчиков и звенит ими. Все хватаются за бинокли… Но, кроме тучи чёрных птиц, ничего не видно. «Проходит время, и вот мы снова поражены новыми звуками, – пишет Покровский. – Они похожи на громкие вопли девушки, в изнеможении зовущей на помощь… Что это? Откуда несётся этот удивительный голос, такой сильный, красивый и такой тоскливый?»
«– Ревуха стонет, – говорит очнувшийся от дрёмы Фома». Кормщик поясняет, что ревухой зовут большую северную гагару, вьющую гнёзда среди тундр, большей частью невдалеке от морских берегов. Летает она и на море; садится на воду и даёт о себе знать своими криками, похожими на громкое рыданье. Над морем ревуха проносится удивительно быстро; её стремительный и прямолинейный полет напоминает пущенную из лука стрелу. Короткие, но сильные крылья с необычайной скоростью несут гагару вперёд, всегда прямо, без поворотов, как будто птица несётся по заранее выбранным невидимым рельсам.
Неожиданно до ушей нашего героя доходит новый неожиданный звук, похожий на тяжёлый вздох. «Уж не царь ли это морской, не морская ль царица грустит об утраченном счастье? – рассуждает исследователь. – Иль это вздыхает сам старик-океан, растревоженный тоскливыми жалобами гагары? А может быть, это просто больное воображение обманывает наш обострившийся в тишине слух и заставляет нас бредить такими странными звуками…»
И снова на выручку приходит Фома, который лениво сообщает, что это играет белуха: «Вон там – на побережнике»[2], – и он указывает рукой на северо-запад.
Натуралисты всматриваются вдаль: где-то на морской глади – то тут, то там – сверкают ослепительно-белые блёстки. Они вспыхивают и гаснут как блуждающие огни…
Наш герой поясняет, что белухой зовется огромный дельфин, до двух саженей в длину, появляющийся иногда стаями у берегов северных морей: «В тихую погоду его белоснежная кожа ярко блестит среди серо-голубой водной глади, и легко выдаёт присутствие зверей, – свидетельствует учёный. – Белухи движутся «густыми» стаями, преследуют несметные «воинства» рыб, идущих метать икру в мелкие прибрежные воды. Без устали ныряют они, плавают в глубине, хватают добычу неуклюжей пастью и вновь появляются наверху, чтобы передохнуть и выбросить [фонтаном] воду. Вода падает, бурлит и шумит; этот шум слышится за несколько верст и кажется тяжкими вздохами сказочного существа».
Тем временем карбас приближается к Канину полуострову… Впрочем, маршрут судна достаточно неровный: иногда береговые течения относят карбас далеко в море; тогда приходится менять галс и приводиться, как говорят поморы, «к ветру». И наоборот: иногда с отливом карбас садится на песчаную «кошку». Тогда команда разувается и ходит босиком по обнажившемуся песчаному дну, собирая оставшихся в лужах раков, червей, полипы и других мелких морских тварей…
Неожиданно задул крепкий юго-западный «поветер», т.е. попутный ветер – шелоник[3]. Все бросились к мачтам. Кормщик командует… Надулись белые паруса, и тотчас у форштевня забулькали рассекаемые волны, а позади руля побежала прямая и светлая водяная дорожка.
Шелоник стал крепчать: океан потемнел, и волны вздыбленными горами понесли во всю ширь океана. Флаг над головой затрепетал лихорадочной дрожью, а внизу – удар за ударом: то свежие солёные брызги «потчуют» развалившуюся вдоль бортов команду.
«Ничего! Скоро будем в защите!» – говорит Филипп, старший сын кормщика, и указывает головой вперёд, где далеко в море выдаётся какая-то скала.
Карбас подходит к устью реки Чижи – первой станции на пути. Чижа[4] образует собой глубокую и хорошо защищённую бухту. Здесь команда должна пересесть в малую вёсельную лодку, чтобы подняться вверх по течению реки и «врезаться» в самое сердце тундры, покрывающей дикий Канин полуостров.
«Наше созерцание берега прерывается криками: «Белуха! Белуха! Опять белуха!» – вспоминает Покровский. – Теперь мы уже в центре целого стада белух. Скрытые под водой пеною волн, они оставались для нас незаметными, пока мы неожиданно для них и для себя не оказываемся среди стаи. Странно смотреть, как внезапно то с той, то с другой стороны вокруг нас вспучиваются из пенистых вод их огромные белые туши и тотчас, изогнувшись дугой, снова ныряют в морскую пучину… Стадо без малого в несколько сотен голов…
Оба моих товарища хватают винтовки и ждут момента, чтобы выстрелить. Я уговариваю их не стрелять, потому что мало надежды убить большого зверя, а раненый он всё равно уплывёт. Впрочем, мои доводы не имеют успеха: один за другим гремят торопливые выстрелы… Сизый дым стелется по воде, запах ружейного огня кидается в ноздри. Зверь с плеском ныряет, поднимая целое облако пены, и тотчас по воде начинает расплываться светлое лоснящееся пятно, как разлитое по бумаге масло».
Гребцы одобрительно смеются: «Попали! Гляди как «лосо»[5] побежало!».
Впрочем, зверь только ранен: он ныряет и скрывается в глубине… Покровскому досадно: зря искалечено, а может быть, погублено изящное морское животное. Наш герой пытается представить, как ненавистен белухе ранивший его человек, «это страшное чудовище, убивающее ради убийства, несущее смерть ради любопытства, ради удовольствия, ради пустого мимолётного желания».
Вскоре распуганное выстрелом стадо белух исчезло, а карбас грузно вошёл широкое устье Чижи. По сторонам вместо привычной синевы моря – песок, чёрные избушки промыслового становища… Несколько шняк и карбасов качаются на якорях у самого берега. На берегу – кучка людей: ожидают швартовки карбаса. Покровский описывает встречающих: «Мы различаем их загорелые лица, их тёмную одежду и головы, укутанные от комариных укусов полотенцами и бабьими платками… Мягкой туманной дымкой чуть заметных сумерек встречает нас незнакомая чужая земля. Что ожидает нас там, за этими молчаливыми плоскими берегами? Какие новые тайны откроются нашим глазам в неизвестной Канинской тундре?».
Одни в тундре
Прибыв в Канин, натуралисты оставили команду баркаса, взяв с собой только кормщика Фому. Вместе с ним они путешествовали по Чиже, вместе слушали задумчивую тишину тундры, видели молчаливые озёра, которые таятся в сердце этой пустынной земли.
«За это время мы сроднились с неослабевающим светом полярного дня, – пишет Покровский, – с несмолкающим звоном неизмеримых комариных роев; мы собирали яркие цветы, мягкую белую пушицу, выросшую на моховых кочках, желтые ягоды морошки, которыми так любят лакомиться белые медведи. Мы видели на стороне Канина холодные воды Чешской губы, слушали туманное дыхание ледяных гор, приплывшее к Канинским берегам из далёкого Карского моря. Мы бодро несли все тягости пути по илистым поймам, по болотам с ледяным, нерастаявшим дном, по спутанным чащам, по бесконечным извивам тундренных речек.
Мы спали то в курных промысловых избушках, то на голых склонах реки, то в мокром болоте, на раскинутых поверх стеблей тростника толстых шкурах северного оленя. Мы шли до изнеможения, гребли до боли в руках, терпели уколы жадной до крови мошкары, напрасно стараясь спасти от нее кисейными сетками наши лица, перчатками из волосатой шерсти наши руки. В едком дыму костра, от которого слёзы текли по нашим щекам, мы садились за походный обед, питаясь убитой дичью и чёрствыми сухарями. Мы двигались всё вперёд и вперёд, то, пользуясь течениями приливов и отливов, то волоча, подобно бурлаку, нашу лодку. Мы делали снимки, шагали взад и вперёд с землемерными снарядами в руках, и наши выстрелы гремели по тундре, поднимая тучи птиц...»
Наконец, вся команда снова на карбасе, который теперь входит в устье маленькой речки в южной части Канина. Здесь расположено одно из крайних северных русских селений. Поселенцы здесь не только живут рыбой и охотой на тюленя – они косят сено, держат коров, лошадей, овец, кур и даже сажают немного картофеля. Имя посёлка – Нижняя Мгла – взято от одноимённой реки.
Филипп говорит, что здесь живёт Илья – «хороший, добрый человек».

Поморская деревня. Художник Валентин Комаров. 1991 г.
Илья встретил гостей на берегу. Это был красивый человек, с густыми светлыми кудрями и такой же бородой. Он радостно приветствовал всех и пригласил в избу. «В движениях хозяина много благородства и достоинства, – признаётся Покровский. – Я любуюсь его статной фигурой и думаю о том, что такими, быть может, были отважные свободные новгородцы, заселявшие север».
В просторном доме – мальчик-подросток и задумчивая девушка лет семнадцати. Илья показывает своё хозяйство… Дом большой, в два жилья: летнее и зимнее. Первое – внизу, второе – вверху над летним. В том и другом – по нескольку комнат и клетей (в нижнем – клади и амбары, вверху – жильё и закуты для скота и домашней птицы. Верхний двор зовётся «поветью», как везде на севере.
По приставной лестнице гости взбираются на крышу, чтобы оглядеть окрестности… Оттуда видна светлая полоска реки, а за ней – темный лес. Илья сообщает, что за лесом – озеро и предлагает завтра посетить его.
После прогулки по крыше, Илья ведёт всех на берег моря, где стоит старый деревянный крест, поставленный ещё его дедом – первым поселенцем на реке Мгле.

Фотография Андрея Полукарова, GeoPhoto.ru
Гости снова возвращаются в избу. Покровский замечает, что дочь Ильи – красавица… «Да, – отвечает хозяин. – В покойницу она вся. В первую мою жену»…
«Ну, Катюша, – говорит Илья дочери, – угощай гостей, ставь на стол, что есть в доме!» Дочь, потупясь, подаёт посуду, хлеб, молоко…»
За самоваром Илья расспрашивает гостей о жизни в далёкой России, о больших городах и столицах. Спутник Покровского в этот день в ударе: рассказывает о своих приключениях на Кавказе, в Туркестане, Персии, говорит о тёплых странах, где не бывает зимы.
– А правда ли, что в Москве церквей сорок сороков, и все с золотыми главами? – спрашивает, словно очнувшись, красавица-дочь Ильи.
– Правда, – отвечает товарищ Покровского и улыбается девушке.
Наконец, обед окончен – пора готовить лодку для завтрашней поездки по озеру. Надо также приготовить патронов и вычистить ружьё…
Выйдя на улицу, Покровский заговорил с Ильёй о его дочери – хотел похвалить её – как она славно накрыла на стол, и узнал о ней неожиданное: «Она несчастная девушка, о которой забыл Бог, – пишет исследователь. – Он больна и сохнет день ото дня, а её не хотят лечить; жить ей здесь постыло, никто не любит её. Отец раньше любил, а женился на молодой, и перестал любить, так как прежде, а мачеха не дает ей жить, попрекает хлебом, слабой работой и про болезнь её не верит. Сама же Катюша говорит моему спутнику, что ей хотелось бы посмотреть ту далёкую сторону, откуда мы пришли, где солнце греет теплее и дольше, где не бывает такой тёмной зимы как здесь. Она будет молиться за него, будет служить ему до самого гроба, если он сделает это».
Однако спутник Покровского явно не горит желанием равняться на героя рассказа Куприна «Олеся» и перевозить поморскую девушку в свои московские апартаменты...
«Порченая она у меня, – скажет позднее про свою дочь Илья. – Сам не знаю, что с ней. Всё есть у неё. Так нет! Рвётся, тоскует, говорит, что никто не любит её. А уж как больше любить – и не знаю! – Затем, помолчав, мрачно продолжает: – Мачеха, точно, не всегда ласкова с ней…»
На следующий день лодка отправилась вверх по извилистой Мгле – то на вёслах, то под парусом… Здесь не так пустынно, как на Чиже: кое-где попадаются люди, которые косят и сушат сено, ставят стога и смотрят с любопытством на лодку. Иногда она пристаёт в каком-нибудь посёлке, состоящем из трёх-четырёх домов, и тогда гостей неизменно пригашают в избу. «Мы всему любопытствуем и записываем то, что удаётся услышать, – пишет Покровский. – Нам нравятся эти потомки новгородцев, продолжающие до сих пор дело покорения Севера. Мы слышим в их говоре старинные обороты, древние слова, давно вышедшие из нашего обихода. Нас занимает их умение обходиться без заимствованных басурманских слов и названий, проникающих к ним вещей и понятий. Нам нравится, что они зовут компас «маткой», «маховкой» – флаг на вершине мачты, «полуночником» – свирепый норд-ост. Мы узнаём, что этот смелый, грамотный и умный народ сумел унести с собой за полярный круг тот странный уклад и упорство искренней старой веры, которая долго цвела везде по северным лесным скитам».

Маточка-компас. XIX век.
«Катюша, прости!»
Наш герой признаётся, что, познакомившись ближе с этими людьми, они начали лучше понимать то, что поражало их на Канине полуострове. Им не раз приходилось находить приют в маленьких промысловых избушках, построенных неведомо кем, неведомо когда по морским и речным берегам. В них они неизменно встречали запас топлива, коробки спичек, положенные у почерневшей печки; иногда встречался мешок с высохшими сухарями и сухой мукой, прикрытой берестяной коробкой.
Возле кинутых людьми становищ встречаются часовни с деревянными крестами. В часовнях – иконы в старинных серебряных ризах, лампады, наполненные маслом, церковные подсвечники со свечами, небольшой запас свечей и деревянного масла, а нередко – медная тарелка с оставленными кем-то в ней мелкими монетами.
«Сколько времени лежат эти скромные приношения неизвестных людей? – задаётся вопросом Покровский. – Говорят, много месяцев, потому что раз в год приезжает староста часовни за деньгами, сложенными на блюде, и оставляет новый запас спичек, лампадного масла и свечей. Неизвестные путники приходят и ночуют в становищах, заходят помолиться в часовни, и никому не является лукавая мысль коснуться жертвенных денег. Наоборот, все, сколько могут, оставляют на медной тарелке посильную жертву, а с собой уносят умиление и неложную надежду на заступничество и помощь».
На ночь путники причаливают у промысловой избушки, построенной Ильёй. На топчанах расстелены оленьи шкуры. Уютно! Перед сном – тихий говор, все вспоминают прошедший день…
Утром Илья ведёт исследователей к «Чудским ямам». По словам Покровского, это последние следы древнего становища таинственной чуди, «которая когда-то крепко» боролась за землю с новгородцами, и от которой осталось лишь её имя, да вот эти ямы, еле заметные следы её землянок.
По дороге Илья показывает и другую избушку, которую он недавно построил. «Вставил даже стёкла! Во!» – похвастал он. «Стёкла в избе – роскошь немалая посреди тундры, – замечает Покровский. – В углу избы – образ, на полке – сухой каравай, соль в деревянной коробке, мешочек с мукой, запечатанная жестянка, немного крупной дроби и пыжей для шомпольного ружья».
Наш герой интересуется, для кого Илья столько заготовил… «А кого Бог приведёт, заблудится кто: вот и пригодится», – добродушно отвечает хозяин.
Через несколько дней команда снова вернулась в гостеприимную избу Ильи в Нижней Мгле. Это последняя «станция» экспедиции на Канине… Покровский и его спутники исследуют морские берега, охотятся, чертят планы окрестностей, снимают шкурки птиц и укладывают свои коллекции.
Утром – отплытие… Команда носит на карбас поклажу. Покровский прощается с Ильёй и хочет вручить ему несколько царских купюр – за хлопоты. Хозяин не берёт, обижается, говорит, что рад был принять гостей и послужить, чем мог… Настаивать неудобно, и наш герой сдаётся… Объятия, поцелуи…
И тут происходит неожиданное: девушка встаёт на колени и умоляет спутника Покровского взять её с собой: здесь всё ей постыло, всё немило; он должен взять её в Москву – показать златоглавые церкви, прекрасные города, другое солнце, другое небо. Она не хочет больше зимы, хочет тепла, вечного лета, и за это она будет любить его, будет его верной служанкой!
Покровский с тревогой следит, что будет дальше… Вот уже пошла вверх мачта, вот взметнулась вторая… Вот уже затрепыхался на ветру серый парус карбаса, словно призывая команду в море…
Спутник нашего героя медленно подходит к девушке, наклоняется к ней, что-то говорит на ухо, гладит по голове, затем быстро выпрямляется, идёт большими шагами и быстро взбегает по сходням на карбас.
С пригорка к морю спускаются Фома и хозяин избы Илья. Остановившись, они обнимаются и крестят друг друга.
…Слабый «поветер» чуть выгибает парус. Снова неслышный ход карбаса баюкает команду, снова плачут гагары, тяжко вздыхают в море белые «дельфины», снова звучит невыразимая музыка Ледовитого океана. А где-то за кормой висит в каком-то волшебном мареве оставленный берег…
Покровский снова вспоминает эту странную девушку из Нижней Мглы, которая так хочет покинуть отчий берег. «Не знаю я, порченая ли она или просто исстрадавшаяся душа, – рассуждает он. – Не всё ли равно! Её жизнь стиснута горем, она чахнет, гнётся под тяжёлым северным небом в надоевшем, опостылевшем мире отцовского дома. Она тянется к солнцу, просит тепла и света. А мы? Мы только путники, случайно проходившие мимо. Мы чуждые люди, люди другой, южной земли… Чем мы могли помочь ей?.. Ведь ей приснился сказочный сон об Иване Царевиче, который долго скитался по морям и дорогам, чтобы отыскать её, освободить из плена и увезти в свои золотые хоромы к горячему яркому солнцу. И этот сон обманул её! Не дождаться ей Ивана Царевича, не уйти из постылой неволи… Что ж, эта участь не одной только бедной девушки из Нижней Мглы.
Канин – прощай! Катюша – прости!..»

Фотография Юрия Овчинникова, GeoPhoto.ru
***
Андрей Юрьевич Епатко, старший научный сотрудник Государственного Русского музея, специально для GoArctic.
[1] Носовая оконечность судна, исполняющая функцию водореза.
[2] Побережник – северо-западный ветер.
[3] Слово идёт от реки Шелонь, впадающей в Ильмень. Юго-западный ветер, дующий с Шелони, – довольно устойчивый ветер… Именно новгородцы, продвигаясь на Север, перенесли на Белое море и Ледовитый океан свою озёрную топонимику.
[4] Чижа протекает в Заполярном районе Ненецкого автономного округа на юге полуострова Канин. Длина реки 44 км. Чижа впадает в Мезенскую губу Белого моря.
[5] Лосо, т.е. жир, сало.