Андрей Головнев: «Вся наша страна – Север»
Академик РАН и директор Кунсткамеры рассказывает о происхождении, предназначении и северности России, философии жизни коренных народов, антропологии движения, а также о пользе вечной мерзлоты для археологии и своей любви к одиночным экспедициям

Андрей Головнев. Фото предоставлены автором
Андрей Головнев всемирно известен как этнограф, антрополог, академик РАН и директор Кунсткамеры. А для GoArctic он чрезвычайно интересен еще и как уникальный специалист-северовед.
Россия – самая северная держава
– Андрей Владимирович, как автор книги «Северность России», что вы вкладываете в понятие Севера? В существующих терминах легко запутаться: Русская Арктика, Заполярье, Крайний Север, Арктическая зона Российской Федерации. Или вот еще: зона вечной (многолетней) мерзлоты…
– По моему глубокому убеждению, вся наша страна — Север. Это очень хорошо видно, если сверху посмотреть на большой глобус. Причем лучше всего с высоты Полярной звезды. Тогда абсолютно наглядно видно, что мы самая северная из всех, в том числе северных, стран. Это, на мой взгляд, дает нам большое преимущество как географически, так и идеологически.
Север — естественная для нас природно-культурная ниша. Мы ощущаем себя в ней уютно, как дома. Другое дело, что для нас самих северность настолько очевидна, настолько не требует доказательств, что мы до сих пор не удосужились сформулировать систему аргументов в ее пользу.
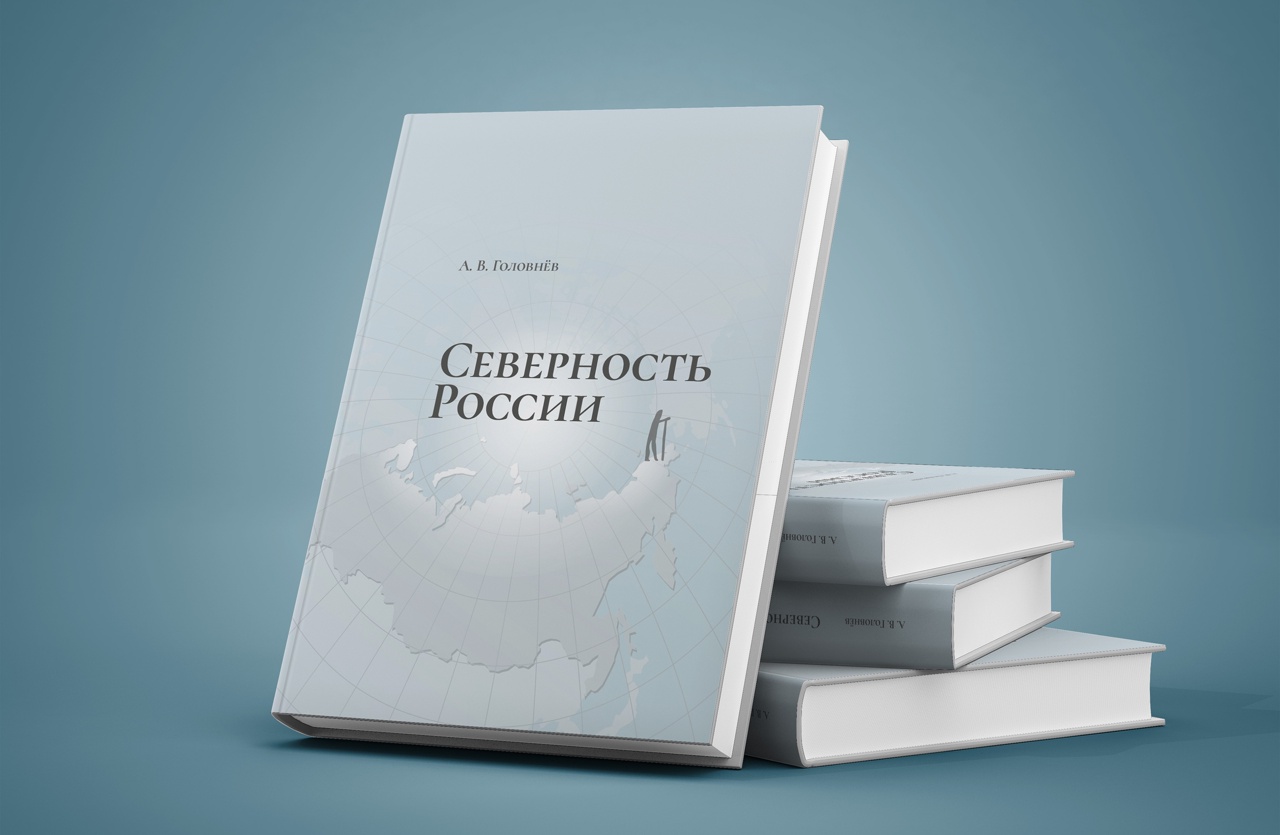
Книгу можно прочитать здесь
– Но как же быть с нашим субтропическим Сочи?
– Конечно, у России есть то, что называется Юг или, как иногда говорят, мягкое подбрюшье. Почему мягкое? Потому что наши южные границы на протяжении веков не имели сложившихся геополитических очертаний, были размытыми. В то время как Крайний Север всегда был и остается неизменным спинным хребтом России. И уж если о географии, то зона вечной мерзлоты, о которой вы говорили в самом начале, занимает около 65 процентов территории страны.
– В своем исследовании вы также говорите о том, что наша государственность формировалась именно с Севера, назвав Киевскую Русь «искусственно сконструированной идеологемой». Вам за это не «прилетает» от академической общественности?
– Почему-то нет. Наверное, потому, что я поймал историографию за хвост. Ведь понятие «Киевская Русь» — конструкт XIX века, которое талантливо пропагандировал профессор Василий Осипович Ключевский. Ему казалось, что славяне двигались с юга на север и, по его логике, на этом пути возник Киев.
Но историческими источниками и, главное, археологией четко подтверждается, что Русь распространялась именно с севера на юг. И само слово Русь скандинавского происхождения, обозначающее рать или корабельную дружину. Ну а дальше все довольно хорошо изучено: Старая Ладога на Волхове, следом Рюриково Городище, Великий Новгород и знаменитый путь из «варяг в греки»…
– В споре о самой древней столице Руси вы на стороне Старой Ладоги или Великого Новгорода?
– Конечно, Старой Ладоги. И по археологии, и по летописи с нее все начинается. К Старой Ладоге подходили морские суда, а чтобы подняться выше по Волхову, нужно было волоком пройти через пороги. И очень быстро Старая Ладога стала логистическим центром, где происходила смена морского флота на речной. Такой своеобразный пит-стоп.
И этот переход принципиально важен, поскольку именно таким образом произошло превращение скандинавско-ладожских варягов в волховско-ильменскую Русь, когда они из морских людей превратились в речных, постепенно ассимилировавшись со славянами и финно-уграми. И затем уже Новгород стал одним из крупнейших городов всей Западной Европы. И на Ростральных колоннах Санкт-Петербурга не зря установлена величественная фигура Волхова.
– Не менее любопытно вы говорите о дуэли Москвы и Новгорода как о столкновении различных цивилизационных и ментальных традиций – норд-русской (новгородской) и орд-русской (московской). Не боитесь, что вас запишут в противники современной вертикали власти?
– Вертикаль власти не так проста. Особенно применительно к такой огромной стране, как Россия. Потому что удержать одним швом, одной вертикалью такое огромное пространство с многообразным народонаселением просто невозможно. С моей точки зрения, есть, по меньшей мере, три силовых линии, которые создают целостность нашей страны – это нордизм, ордизм и понтизм. И благодаря удачно найденному симбиозу этих магистралей, этих равновеликих сил мы и существуем как сбалансированное общество разных народов и культур.
– Еще вы сокрушаетесь, что многие до сих пор отождествляют Север с дикостью и варварством, тогда как в современной картине мира «глобальный Север» выглядит предпочтительнее «глобального Юга». А в чем заключается его преимущество?
– Еще Монтескье писал о превосходстве суровых и мужественных северян над размягченными и изнеженными южанами. Римляне и китайцы называли северян варварами, отгораживались от них Великой стеной и Лимесом, но безуспешно: и те, и другие пали под ударами «северных варваров»; и там, и тут сформировались королевские и императорские династии из северных конунгов и ханов. Высокой мобильностью и изощренной маневренностью северные кочевники морей и степей на голову превосходили оседлые цивилизации Юга.

– А своей вертикалью «Север – Юг» вы не отбираете хлеб у западников и славянофилов?
– Давно пора это сделать, хотя в свое время они своими дебатами принесли немало пользы для самопознания России. Впрочем, помимо пользы, они увлекли Россию бесплодными спорами о том, Запад она или Восток, Европа или Азия. Бесплодны эти споры потому, что Россия и Европа, и Азия, но в Европе есть куда более западные европейцы, а в Азии – более восточные азиаты, то есть Россия вторична и на Западе, и на Востоке. А вот на Севере она первична, оригинальна и самобытна. Кстати, в XVIII веке, до появления западников и славянофилов, Россия представлялась на Западе и на Востоке именно северной державой.
– Применительно к заселению Арктики вы говорите, что циркумполярный мир был не монолитной культурой, а цепью культур, связанных друг с другом «горячими контактами». Что это были за культуры и как все происходило?
– Коренные народы Севера нередко называют малыми или малочисленными; на самом деле они – культуры больших пространств. Искусство освоения огромных пространств отличает и большие коренные народы Севера – скандинавов, русских поморов, коми-зырян, якутов.
В этом искусстве значительную роль играли средства передвижения – собака, олень, конь, судно; причем там, где кончался водный путь, начинался оленный или конный, где не могли пройти лошади, бежали олени или собаки. По существу, весь циркумполярный мир был территорией масштабных поездок, кочевий и путешествий. Самыми дальними были поездки даже не за диковинными товарами, а за невестами – так, по крайней мере, повествует фольклор. А в ходе таких поездок случались и жестокие схватки, и торговые сделки, и шаманские дуэли, и любовные связи. Вот такие встречи я и называю «горячими контактами» в холодных арктических тундрах.
Постигая Арктику изнутри
– Судя по количеству экспедиций, вас кабинетным ученым не назовешь. Вы помните свои ощущения от первой встречи с Арктикой?
– Моя первая персональная экспедиция в поселок Кутопьюган на Ямале состоялась в 1978 году. Дело было летом, и моим первым неизгладимым впечатлением стал полярный день. Я просто не мог спать, во мне происходили какие-то кульбиты сознания. И чтобы справиться с этим состоянием, я начал писать стихи. И параллельно с жадностью знакомился с кочевой культурой ненцев, которые меня тепло приняли и с интересом за мной наблюдали. А я, как ребенок, который, постигая мир, тащит себе все в рот, пробовал ненецкую пищу.

Явай-Сале, Ямал
– Тоже впечатлились?
– Когда вытаскиваешь из лодки пойманного осетра, с трудом закидываешь его на плечо, а его хвост волочится по земле, такое не забывается. Как, впрочем, и то, что мне, как удачливому рыбаку, протянули живое, бьющееся осетровое сердце величиной с мужской кулак. Я не знал, что его нужно разрезать ножом, и, собравшись с духом, откусил. Конечно, весь обрызгался под дружный хохот ненцев. Они так своеобразно со мной играли. Но в этом не было ничего обидного.
Они просто знакомили меня со своим миром, учили, как есть сырую рыбу и оленину, как правильно ухаживать за ненецкими девушками и даже собирались женить. После этого первого знакомства с очень добрыми и щедрыми людьми я влюбился в этот народ и, кстати, впервые всерьез погрузился в северную философию.
– А в чем она заключается?
– В безмолвии. Не в словах, а в безмолвии, которое удивительным образом сочетается с другим полюсом-крайностью – с поэзией. В этом состоянии безмолвия я нашел себя. Мысли как будто из космоса выплывали так ясно, выразительно, гротескно. Их можно было прямо рисовать и описывать. В городской суете мысли себя так не ведут. Вот эта живопись безмолвия навсегда меня покорила и увлекла. С тех пор я очень люблю и практикую экспедиции в одиночку.
– Почему?
– Парадоксально, но такие поездки самые безопасные, потому что без сопровождения ты защищен своим одиночеством. Когда ты приезжаешь один, местные жители сразу берут тебя под свою опеку и защиту. А когда ты приезжаешь бригадой – тебя слишком много, ты агрессор.

– Как вам в конечном итоге удалось стать «своим среди чужих»?
– Мне кочевники всегда были искренне интересны. А если человек понимает, что ты испытываешь к нему и его культуре живой интерес, он отвечает тебе взаимностью. Во-вторых, для налаживания близких отношений очень «выгодно» попасть в беду. Мне это удавалось регулярно: тонуть, замерзать, рисковать. В этом случае тебе обязательно придут на помощь. Но и ты должен быть готов поступить соответственно.
Однажды, когда я жил на Чукотке в стойбище оленеводов, из заключения на Мысе Шмидта сбежала банда вооруженных уголовников. Они вполне могли двинуться в нашу сторону, и меня выбрали командиром, чтобы я спланировал стратегию возможной обороны. Мы всерьез готовились, но все разрешилось без нас и благополучно.
Но мой авторитет вырос фантастически. Я стал желанным и почетным гостем в каждой яранге. Потом и вовсе по округе разлетелась легенда о том, что «наша бригада стояла насмерть», и хоть я пытался ее опровергнуть, фольклор распорядился по-своему.

С другом Антылиным, Чаунский р-н, Чукотка
– Такое индивидуальное проникновение в среду очень ощущается в ваших авторских документальных фильмах под общим названием «Этнографическое бюро». А что вас вообще заставило взяться за кинорежиссуру?
– В экспедициях я исправно вел дневник, составлял описания, но меня не покидало ощущение, что я не выразил чего-то самого главного. И, наконец, понял: кочевую культуру практически невозможно описать словами. Можно потратить тысячу слов, но они ясности не добавят. А можно снять на камеру полминуты, и они объяснят все основные смыслы и динамику кочевников. В этом своем движении они очень кинематографичны и киногеничны. Поэтому я начал с фотографии, а потом очень быстро перешел к кино. И сейчас у меня в проекте значится создание визуальной антологии Арктики.
– Но кинематограф, пусть и документальный, все же не наука…
– Я убежден, что наука и искусство должны дополнять друг друга. Это неразлучная пара. Поэтому, заимствовав методологию движения из искусства, я привнес этот подход в науку и очеловечил этнографию. Некоторые говорят, что я занимаюсь «художественной антропологией», думая, что тем самым слегка отодвигают меня на обочину. А на самом деле наука, особенно гуманитарная, должна быть предельно человечной.
– А почему с точки зрения археологии, антропологии и этнографии вы выделяете свою групповую экспедицию на Остров Жохова?
– Остров Жохова – это своеобразная Земля Санникова каменного века. Вообще бытует устойчивый стереотип, что настоящая история начинается с письменных источников. Но задолго до того, как было что-то написано, много чего было нарисовано. Поэтому историю Арктики нужно начинать не со скандинавских саг и не с русских поморских сказаний, а с первых изображений, которые могли быть оставлены десятки тысяч лет назад. Это помогает нам понять, что, например, заселение всей Америки шло через Берингов пролив с нашего Севера. А на острове Жохова мы обнаружили интереснейшую культуру. Там люди жили бок о бок с белыми медведями, охотились на них и путешествовали на сотни километров.
– Каким образом?
– Мы обнаружили обломки ездовых нарт и останки собак возрастом 9 000 лет. Эти люди были предками сегодняшних чукчей, эскимосов, ительменов, юкагиров…

На острове Жохова, Якутия
– Каковы особенности ведения археологических работ в Арктике и помогает ли в этом вечная мерзлота?
– Мерзлоте нужно сказать отдельное спасибо. Она действительно отлично консервирует. На той же Жуковской стоянке мы обнаружили деревянную посуду, из которой можно есть хоть сейчас. Где вы такое еще найдете? Мы получаем органику, которая позволяет проводить комплексные радиоуглеродные и генетические исследования.
Но нужно также понимать, что здесь толщина культурного слоя минимальна, и это археология больших пространств. Кочевой стиль жизни оставляет после себя едва заметный слой, а иногда не оставляет вообще ничего. Возьмите Монгольскую империю и Золотую орду. Много они оставили после себя археологам? Поэтому каждый найденный предмет, каждая щепочка, найденная в Арктике, возводится в степень. И каждый малый предмет культуры является целым явлением духовности и социальных отношений.
– На ваш взгляд, чему человечество должно учиться у коренных народов Севера?
– Тому, как сохранять свою самобытность, ментальность и традиции в одежде, в пище, в религии, в языке. Обратите внимание, что их боги не заимствованы из других культур, а происходят из собственной среды. Причем в диалоге богов и людей человек играет весьма важную роль. По их верованиям люди превращаются в богов. И вот это отсутствие грани между человеческим и божественным, на мой взгляд, особое качество жизненной философии северных народов.
Я неоднократно был свидетелем камлания шаманов и священнодействий жрецов и видел, как они разговаривают и даже шутят с богами. Один из них, Едэйко Окотэтто, жрец святилища Семи Чумов на севере Ямала, со смехом рассказывал богам, как чуть не подстрелил меня на охоте, приняв за дикого оленя. У всех северных народов шаманы выполняют миссию создателей духовной реальности. Они не следуют канонам, а импровизируют, сами создают пространства шаманского мира, в котором путешествуют, умирают и воскресают. Они наследники того кочевого состояния, с которого человечество начиналось.
Антропология движения
– Так мы подошли к вашей концепции «Антропология движения»?
– Смотрите, человечество начиналось как кочевое сообщество, расселяясь по всей планете. И сегодня коренные народы Севера остаются мастерами мобильности, умеющими при этом очень экономно и эффективно обращаться с материальной культурой. Они с помощью одной только веревки все привяжут, поймают и освоят. Они естественные носители теории относительности. У них, как у Эйнштейна, пространство и время слиты. Причем в зависимости от субъективной позиции измерения времени-пространства могут преобразовываться. У них время кочует по пространству.
В мае – одно пространство, а в июле и сентябре – другое. Более того, если ты неправильно себя повел (это фактор субъективности), то твое время и пространство могут оборваться. Иначе говоря, твое стадо загрызут волки или случится какой-то природный коллапс, от которого вымрут все, включая тебя. То есть, твое время-пространство может сломать и пресечься. Я с недавних пор пишу это понятие в одно слово без дефиса — «времяпространство». Иначе говоря, знаменитая теория относительности – это не изобретение Минковского и Эйнштейна, а восстановление базовой концепции человеческого движения.
– Но не является ли катастрофой для остальной части человечества, что мы перестали двигаться и осели?
– Я не думаю, что это катастрофа. Возьмем так называемую онтологию, то есть развитие человеческого организма. Ребенок – это абсолютный человек движения, которого невозможно остановить. Потом дома и в школе его учат тихо сидеть, и он незаметно для себя повторяет путь человечества от кочевья к оседлости. Впрочем, некоторые к старости, впадая в детство, снова возвращаются к движению, пускаясь, например, в путешествия.
Еще одним реваншем мобильности являются современные транспортные средства и интернет. Сегодня человек может реально или виртуально очутиться в любой точке планеты, то есть он сохраняет и даже наращивает мобильность. Причем новые технологии коммуникации позволяют человеку, не двигая телом, двигаться мыслями.
– Как вы думаете, смогут ли коренные народы Севера сохранить свою мобильную культуру под натиском современной цивилизации?
– Наши северные кочевники – это, прежде всего, лучшие оленеводы в мире. И если они не изменят себе, не допустят того, что станут вторичными в городах и поселках, то сохранят и свою культуру. Мы видим, как искушение уютом и благополучием сыграло роковую роль для туземцев Северной Америки.
Пересев с собачьих упряжек на механический транспорт и живя в поселках, они представляют собой лишь отдаленное напоминание об эскимосах. Конечно, никто не призывает к пещерному образу жизни, но сохранение той самой мобильности и своей философии жизни принципиально важно.

Вручение Госпремии РФ за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики
– До момента, пока в Кунсткамере не открылся зал «Многонародная Россия», в вашей экспозиции были представлены только коренные народы Северной Америки. Планируете ли вы еще больше расширить наше представительство?
– Немаловажно уже то, что ныне главный зал Кунсткамеры представлен народами России и воссоздает момент рождения в XVIII веке национальной идеи нашей страны как государства, обильного и богатого народами. Так что идея многонародности, как и науку о народах, этнографию, можно считать нашим национальным достоянием и приоритетом. Продолжением этого направления стала серия презентаций идеи многонародности России на прошлогодних выставках Экономического форума и Африканского форума, на стендах Газпрома. Новые экспозиции по народам России планируются в новом экспозиционном пространстве МАЭ РАН в открывающемся вскоре научно-хранительском комплексе.
– Вы возглавили авторский коллектив, который обещает за три года написать первую в нашей стране трехтомную «Историю Российской Арктики». Не слишком ли сжатые сроки и что будет из себя представлять это издание?
– Проект еще не запущен, но мы уже готовимся к его реализации, собираем совещания и статьи в наши журналы. Конечно, за три года невозможно доисследовать всю историю Арктики, но можно, объединив силы лучших североведов страны, достойно представить накопленные на сей день разработки и материалы. Так что время проекта еще не пошло, и есть шанс лучше подготовиться к предстоящему трехлетнему «мозговому штурму».
– Напоследок еще раз о северности России. В книге вы говорите, что с недосказанности ее начали и недосказанностью закончили. А сейчас вы уже готовы поставить точку в своих умозаключениях?
– Ни в коем случае. Наоборот, мне представляется яркая траектория будущего России в ее самореализации на основании собственных, а не чужих, качеств и ресурсов. Идея северности открывает новые грани и возможности России, выводит ее на позиции убедительного первенства в глобальном измерении.

***
Валентин Юшкевич, специально для GoArctic


