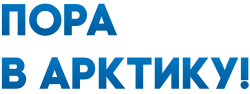«На Вайгаче больше шансов выжить…» Вацлав Дворжецкий в ГУЛАГе, часть II
«С Вайгачом я сроднился. Мне было интересно там быть, там работать»

Продолжение. Начало здесь.
Окно на волю
С вайгачских времён у Дворжецкого сохранились стихи, сочинённые им для «Живгазеты»:
…Не будем мы чарами недр восхищаться!
Не будем гармонию чудес созерцать!
Нам надо поглубже в скалу пробиваться,
Нам надо руду добывать!..
***
...Растут ударников могучие полки!
Мы старый мир берём в штыки!
Дворжецкий перечисляет названия спектаклей, поставленных и сыгранных на Вайгаче в 1931-1933 годах: «Конец господ Ржевских», «Нигилисты», «Землетрясение», «На дне», «Ревизор», «Волчья тропа», «Враги», «1000 марок». Декорации, разумеется, были условными, а костюмы самодельными. Сам же театр был, по словам нашего героя, «окном на волю».
Вскоре вайгачский клуб-театр стал подлинным культурным центром лагеря, а выступления «Живгазеты» и спектакли – популярными. Их посещали все лагерники без исключения. Ведь других развлечений на Вайгаче ничего не было: ни кино, ни радио, ни телевидения. Письма и газеты поступали два-три раза за лето.
Дворжецкий добавляет, что они выпускали и стенгазету, в которой очень часто менялись заметки, карикатуры и последние известия. Дело в том, что начальник лагеря имел связь с материком по радио, и некоторые важные новости время от времени попадали в стенгазету.
Характерно, что если на первых страницах дневника Дворжецкий пишет, что работа в шахтах Вайгача была «страшной», то позже настроение меняется. Тем более речь идёт не о шахтах, а об экспедиции вглубь острова, где он, будучи в геологической разведке, работал на буровой вышке. Там же Дворжецкий увлёкся геологией, работал вместе с легендарным полярником и геологом профессором Павлом Владимировичем Виттенбургом – тоже вайгачским «сидельцем». Летом наш герой уходил в поисковую партию, где присутствовала полевая романтика: палатки, инструменты, образцы пород, полевая лаборатория, топография. Зимой Дворжецкий обрабатывал материалов, делал геологические разрезы, составлял карты полезных ископаемых.
Вацлав Янович гордился, что на карте Вайгача можно найти речку «его имени». Случилось это, когда он отрыл флюорит у одной из маленьких безымянных речек, которых летом повсюду было много. Обычно их помечали номерами, а про эту говорили: «та, на которой Дворжецкий нашёл флюорит». В итоге, когда делали общую географическую карту, на ней осталась «речка Дворж».
Удивительно, как, находясь в заключении, Дворжецкий пытался вести жизнь свободного человека. По его собственному признанию, он от всего получал удовольствие: изучал язык ненцев, ездил на оленьих упряжках по стойбищам. Даже научился на нартах орудовать хореем (шест для управления оленями). В своём «Дневнике» Дворжецкий описывает, как был приглашён ненцами на ритуал священного жертвоприношения у «Пропасти жизни». Оно происходило на каменном плато, в середине которого зияла бездонная дыра-пропасть: кинешь камушек – не слышно. Вот туда ненцы и бросали поджаренного «олешка», которого обрабатывали тут же, на костре. Вокруг валялись кости. «Святое место! – пишет Дворжецкий. – Туда никто не ходил – боялись».
Один в тундре
Однажды наш герой заблудился в тундре…
Закончив буровую разведку километрах в двадцати от базы, Дворжецкий отправил группу и оборудование на карбасе через залив, а сам пошёл в обход пешком, надеясь часов через пять, добраться до места. Мог бы со всеми поехать, но решил пешком – интересно было пройтись одному в тундре… Легко сказать «пройтись»: уже через три часа Вацлав Янович понял, что заблудился: просто потерял направление. Шум моря давно прекратился. А тундра? Она везде одинаковая: холм – долина, холм – долина. Солнца нет, небо без туч, пасмурное, блёклое. Ветра нет: Тишина… А кругом тундра, во все стороны, одинаковая, бесконечная…
«Так продолжалось трое суток, – вспоминает Дворжецкий. – Уже на вторые сутки я выбился из сил. Спал урывками, на возвышенности, выбирая сухое место. К ночи становилось темно. Начались галлюцинации: то в одной стороне вижу огоньки, то в другой. Уже не шёл – полз. Часто впадал в какое-то полусонное, полубессознательное состояние. Лежал долго. Очнулся, открыл глаза – и увидел возле своей руки живые существа – хомячков-пеструшек. Чувство голода, мысль о жизни… Откуда сила появилась? Стремительно набросился… Удалось схватить одного. Сжал ладони, прижал ко рту этот тёплый комочек и зубами впился в кровь, косточки, в шерсть… Опять потерял сознание. Когда очнулся, уже мог встать, мог мыслить, жил… Пошёл. Через два часа услышал шум моря! Меня нашли. В больнице я пролежал недолго – десять дней».
Позднее Дворжецкий ещё раз попал в больницу – отморозил руку. Это случилось зимой, когда нужно было отправить в Долгую бухту солярку. А ведь это сто километров на север!..
Сделали сани – площадку из брёвен, погрузили бочки, увязали, переоборудовали трактор (сделали закрытую утеплённую кабину), взяли палатку, фонари, компас. Впереди двое на лыжах – для разведки дороги. Один из них и был Вацлав Янович, который провалился в заснеженный овраг. Лыжу сломал, под снегом с головой оказался. Попытался выбраться из снежного плена – никак. Устал и уснул под снегом! «Сутки, оказывается, меня искали, – пишет Дворжецкий. – Бочку солярки сожгли. Отправили обратно; хорошо, что недалеко ещё было. Выяснилось, что левая рука замерзла. Врач был хороший – отходил! Хотели было руку отнять, через неделю только пальцы зашевелились…»
Было ещё одно приключение…
Однажды наш герой разгружал брёвна с парохода. Судно стояло на рейде, километрах в пяти от берега. Уже лёд, торосы, а между торосами и судном – полузамёрзшая «каша», по-местному – «сало». Слой толстый – лодка не пройдёт, пешком тоже не добраться. Стали на «сало» брёвна бросать – мостки делать – и бегом разгружать. Останавливаться нельзя: начинает прогибается всё «сооружение»… Постепенно все стали привыкать, осторожность мало-помалу исчезла. Разгрузка шла и день и ночь. В одну из ночей Дворжецкий неудачно встал на тонкую «кашу» и провалился вместе с бревном на плече в воду. Помог ему не иначе как ангел-хранитель. Это просто было чудо: рука «вынырнула» рядом с бревном.
«Вытащили меня в кочегарку, раздели, дали стакан спирта, – вспоминает Дворжеций. – Высох и опять пошел разгружать. Не принудительно, а добровольно. И не заболел. Вот какой был организм, вот какой был энтузиазм». Впрочем, Вацлав Янович признаётся, что это было сделано и ради «зачётов» тоже: все надеялись, что начальство заметит рвение и скостит срок… Дворжецкий приводит такой случай: однажды при разгрузке в море упала бухта каната. Не раздумывая, двое заключённых прыгнули в воду и вытащили груз на палубу. Вечером по лагерю объявили приказ: сократить каждому из героев на год срок заключения.
Арктическое здоровье
К концу пребывания на Вайгаче энтузиазм Дворжецкого стал сникать: по весне стали болеет глаза от постоянного едкого полярного света. Выдавали тёмные защитные очки, но их на всех не хватало. К тому же мучительно отражалась на зрении разница: тёмная шахта и сверкающий снег! Весной одолевала цинга, и это несмотря на то, что выдавали клюквенный экстракт. И даже спирт выдавали: 50 граммов в неделю. Впрочем, нерегулярно и не всем, что являлось предметов постоянных раздоров.
Дворжецкий констатирует, что после полутора лет пребывания в Арктике у него стали опухать ноги и выпадать зубы. Волосы тоже стали выпадать. Причину этого он видел в «дистиллированной» снежной воде, которой лагерь пользовался зимой. Летом людей одолевал гнус, зимой – морозы. Тех, кто обмораживался, направляли к рудникам. Некоторые сбивались с пути – несмотря на верёвку – и погибали в тундре. Погибали и в рудниках: то бадья оборвётся, то обвал, то газ… Были несчастные случаи и на разгрузках. Дворжецкий приводит случай, как однажды осенью карбас с рабочими не смог подойти к берегу: ветром нагнало «сала», и люди в тридцати метрах застряли… Больше суток бились – и с берега, и с карбаса: и настил строили, и на брюхе ползали. Ни проплыть, ни подойти. Увы, никого спасти не удалось: началась пурга… Только через две недели, когда лёд окреп, вырубили двадцать человек, уложили в штабеля, закрыли брезентом – временная могила. Летом схоронили в пустых шурфах. «Они и сейчас там целые, – пишет Дворжецкий. – Вечная мерзлота!»
Наш герой уверен, что на Вайгаче были, по его мнению, невероятные «чудеса»: например, на острове никто никогда не болел. Да, на Вайгаче можно было замёрзнуть, но не простудиться. Никаких микробов! Любая травма протекала без воспаления! Никакой инфекции! Именно с отсутствием микробов на Вайгаче Дворжецкий связывает своё спасение в одном случае… Однажды ночью он был смыт волной с тонущего, наскочившего на мель бота. Произошло это, как он пишет, по собственной глупости: залюбовался бурунами, когда команда спешно пересаживалась на карбас, находящийся на буксире. В итоге Дворжецкого вынесло к берегу («опять ангел-хранитель!»). Вацлав выкарабкался на берег, выжал гимнастёрку и подштанники, напялил всё это снова – и бегал по берегу, пока не рассвело. Лишь утром обнаружил в полукилометре карбас и людей у костра, укрывшихся от ветра под скалой. «И что? – восклицает Дворжецкий. – Насморка даже не схватил. Молодость, здоровье и романтика!».

Во втором ряду слева – В.Я. Дворжецкий. Вайгач. Фото 1931 г.
В своих «Записках» наш герой цитирует стихотворения, написанные им на Вайгаче. По-видимому, Дворжецкий сочинял их для своих поэтических выступлений…
В тундре не только олени,
В тундре рычат трактора,
В тундре – узкоколейка
И компрессора!
Не рвущейся нитью протянут теперь
Аэросанный полоз
От горячего сердца СССР
На холодный Северный полюс!
Двенадцать стульев барона Кунфера
Дворжецкий часто упоминает тех, кто сидел с ним в вайгачском лагере. Один из них – Отто Юльевич Кунфер, которого Дворжецкий именует «бароном» и «чопорным джентльменом». Этот исключительно остроумный человек ведал в клубе библиотекой, был в высшей степени эрудирован, когда-то закончил Кембридж или Оксфорд. Хвалился, что успел «прогулять» последнее имение буквально накануне Октябрьской революции, потом пропивал фамильные драгоценности вплоть до конца НЭПа, а когда к нему пришли с обыском, успел проглотить последний оставшийся у него бриллиант. Позже барон спрятал его в ножку венского стула, а стульев было… двенадцать!
По словам Дворжецкого, Кунфер был необыкновенным оригиналом. Например, на Вайгаче он успел собрать коллекцию драгоценных камней и самородков, которые ему приносили геологи и работяги. Лагерное начальство дозволяло хранить камни как сувениры, но вывозить с острова ничего не разрешали. Освобождавшихся подвергали тщательному обыску: всё отбирали, даже кубики пирита или кристаллы хрусталя. К сожалению, из текста не ясно, смог ли Кунфер вывезти на материк свою коллекцию. По-видимому, да. Так как далее Дворжецкий рассказывает, как уходящие на волю зэки, обманывали начальство и вывозили найденное на Вайгаче золото: когда выдавали новую телогрейку, старую тут же отбирали и сжигали в специальной печке, сконструированной здесь же сидевшим профессором Кузьминым. Печка была сделана из железной бочки с керамическим поддоном и нефтяной форсункой. Вентилятором сдувало золу, а расплавленное золото оставалось на поддоне. Таким образом, спрятанные (видимо, зашитые) в старую телогрейку крупицы золота, возвращались своему владельцу, который собирался на волю.
В последний год пребывания Дворжецого на Вайгаче (1933) профессор Кузьмин помог ему устроить юбилейную выставку. «Один из экспонатов производил необыкновенное впечатление, – вспоминает Вацлав Янович. – Представьте: на большом листе фанеры – карта острова Вайгач; на ней отмечены месторождения полиметаллов – они обозначены образцами меди, золота, серебра, цинка, олова, свинца, камушками флюорита, граната, аметиста, рубина – всем, что нашлось в коллекции. Около каждого образца вмонтирована электропроводка, а сбоку – обыкновенные часы-ходики, на циферблате – клеммы, вместо цифр в центре – минутная стрелка. Маятник снят, отчего держатель маятника качается очень быстро, и стрелка движется по циферблату, задевая клеммы, замыкая контакт, – и вспыхивают лампочки на карте поочерёдно. Всё это выглядело чудесно, и всем нравилось».
Кстати, тот же Кунфер ухитрялся на Вайгаче даже «кофейный ликёр» варить. Всего-то требовалось: спирт, сахар, кофе «Здоровье». К «ликёру» барон делал маленькие рюмочки – из лекарственных пузырьков. Срезал горлышки ниткой, намоченной в керосине. Нитка горит, а пузырек опускают в воду. Дворжецкий изумляется изобретательности вайгачских сидельцев: «В тюрьме ухитрялись спичку раскалывать на четыре части, носки штопать при помощи рыбьей кости, шахматы из хлебного мякиша творили».
В конце воспоминаний о своём пребывании на Вайгаче, Дворжецкий приводит описание лагеря: «На берегу громоздились штабеля мешков с мукой, коровьи туши, бочки с сельдью. Для овощей – утеплённый склад, а овощи – всегда мороженные. Охрана – вооружённые часовые – постоянно дежурила у радиостанции, у особняка начальства, у складов с продуктами и около цистерны со спиртом. К начальнику все относились хорошо. Он благоволил нашему театру и через КВЧ одаривал всех участников подарками и благодарностями в приказе. Мы понимали, что и ему несладко».
«Что дальше?»
10 августа 1933 году Дворжецкому неожиданно объявили: «Собраться с вещами для отправления на материк!». Наш герой объясняет, почему ему было жаль расставаться с Вайгачом…
«Какие чувства были, какие настроения у вайгачцев-«каэровцев» [контрреволюционеров – А.Е.]. Вот в основном: начальство не издевается. Условия жизни работы хорошие – ничуть не хуже, чем у «вольных» в экспедиции. В других лагерях, знаем, хуже. Тут идут большие «зачёты» – это сокращает срок, приближает час освобождения. Неволя? Разлука? Время такое – у всех неволя. Надо держаться, сохранить человеческое достоинство, не опуститься, надеться на лучшее, выжить! Для всех этого тут, на Вайгаче, шансов больше, чем в другом лагере. А у меня еще любимое дело – театр! Это отдушина исключительная. Понятно, что я был потрясён, когда мне объявили, чтобы я собирал вещи….»
Дворжецкий добавляет, что его изолировали и не дали попрощаться с друзьями. И всё же наш герой не унывал: он признаётся, что в глубине души опять начала подниматься волна интереса и любопытства: «Что дальше?».
В тот же день, сидя в вагоне, Дворжецкий записал в своём дневнике: «1933 год. 10 августа. Очередной Большой этап: Вайгач – Москва! С Вайгачом я сроднился. Мне было интересно там быть, там работать. Конечно, сознание того, что ты заключённый, остаётся. Не избавиться от этого даже на Вайгаче. Но… Срок – десять лет. Прошло четыре плюс два года зачётов. Итого – шесть. Остаётся ещё четыре! А на Вайгаче это всего два года! И уже лучше там пробыть и освободиться, чем уходить куда-то в неизвестность… Может быть, впереди, что-то лучшее? Таких иллюзий нет. На свободу? Не верю! Значит, опять тюрьмы и лагеря. А Вайгач? Театр? Не успел закончить «Женитьбу» Гоголя…».
Далее Дворжецкий вспоминает самые яркие «страницы» своего пребывания на Вайгаче. Из этих записей видно, насколько наш герой сроднился со священной землей ненцев:
«Когда «Силур» наскочил на бурун, я стоял на палубе гибнущего бота и, потрясённый красотой бушующего моря, держался за мачту. Светилась вода, пена, волны, брызги – сказочно, прекрасно, страшно… «Какая красота!» – и тут волна смывает меня в ледяную пучину…
А дикари – ненцы-самоеды? («Самоед – это не от того, что «сам себя ест», это «сам един». Он один в тундре. Сосед – за сто вёрст!»). Вот они, ошеломлённые ненцы, впервые увидевшие колесо, перепуганные электрической лампочкой, с опаской прикасающиеся к стеклу в оконной раме! Сидят на земле, вокруг только что убитого, ещё тёплого оленя. Старейший отрезает куски и швыряет каждому члену семьи, главной жене – кусок печени. У каждого острый нож, рукоятка – ножка оленёнка или лапка песца. Едят сырую оленину, обмакивая в подсоленную кровь, отрезая кусочки у самых своих зубов, быстро-быстро глотают, не прожевывая. А вот они в каяках – лодочках из шкуры морского зайца – охотятся на нерпу: свистнут, нерпа выныривает, и пуля попадает прямо в глаз. А одежда, атрибуты? Савики, малицы, пимы, липты, пыжик, чумы из оленьих шкур, нарты, лыжи, хореи!.. Это всё – вот оно! Своё! Совсем своё! Где увидишь такое!
А как спасали ледокол Малыгин? Он застрял на всю полярную зиму, затёртый торосами в сорока километрах от базы. Как через «ропаки» в подвижке льдов, на собачьих упряжках, на себе, во тьме и вьюге, доставляли пищу и горючее оставшейся части экипажа! Это разве можно забыть?
А медведя, пришедшего за ворванью к палатке? (Ворвань – кусок тюленьего жира, мы им сапоги натирали, лёжа у входа в палатку). Медведь рядом, в полуметре! А? Дикое побережье, не тронутое ногой человека, с выброшенными неизвестно когда обломками кораблекрушений… Сказка! Я ведь всё видел это! Всё это в меня проникло… Теперь уходит всё. Корабль отчаливает…»
***
Андрей Юрьевич Епатко, старший научный сотрудник Государственного Русского музея, специально для GoArctic.